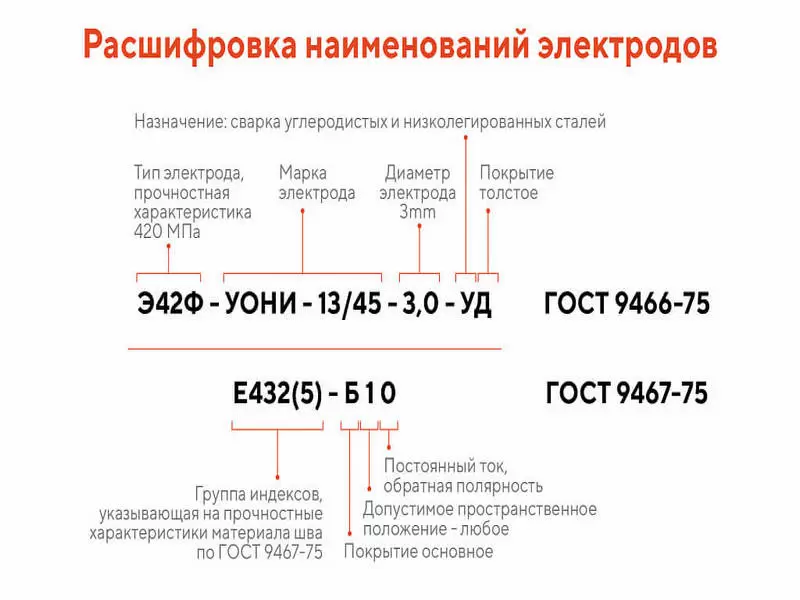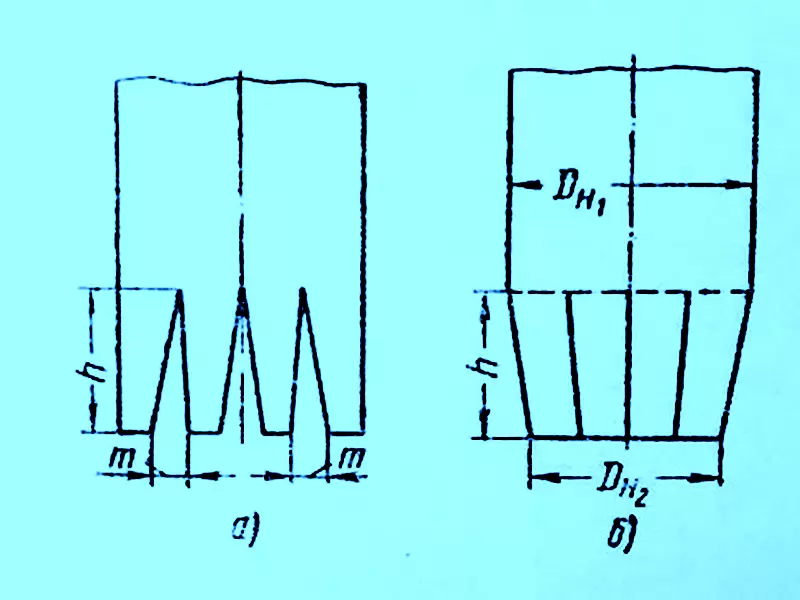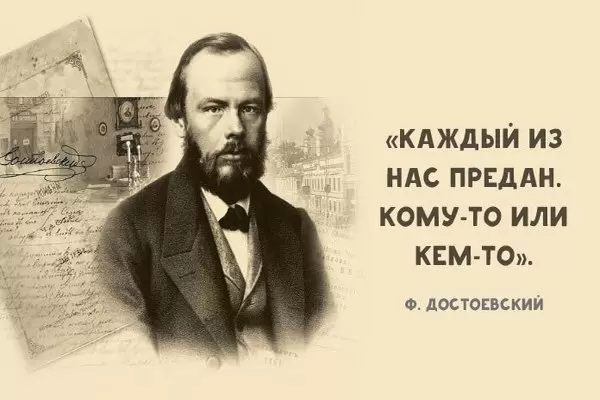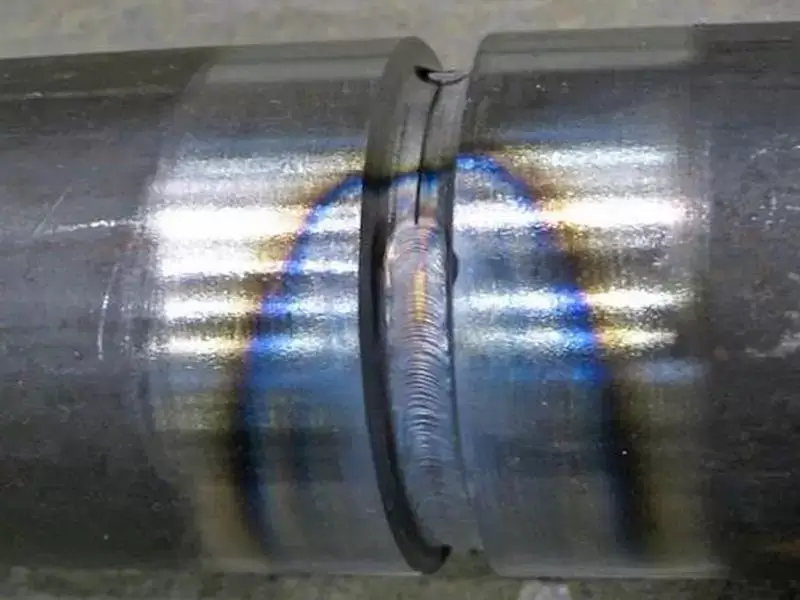Этнический состав Скифии (по лингвистическим данным)
12-августа-2021, 21:28 895 0
 Ряд исследователей XIX – XX вв. не без оснований считали, что уже в скифское время, по крайней мере, во II-I вв. до н.э., в Восточную Европу, в первую очередь в Поволжье, могли проникать племена урало-алтайской языковой общности, которые здесь могли вступать в соприкосновение с ираноязычными племенами, германскими и славянскими племенами Скифии (1). По крайней мере, лингвистический материал подтверждает верность данной гипотезы. Рассмотрим несколько "скифских" слов из источников V в. до н.э. – II в. н.э.
Ряд исследователей XIX – XX вв. не без оснований считали, что уже в скифское время, по крайней мере, во II-I вв. до н.э., в Восточную Европу, в первую очередь в Поволжье, могли проникать племена урало-алтайской языковой общности, которые здесь могли вступать в соприкосновение с ираноязычными племенами, германскими и славянскими племенами Скифии (1). По крайней мере, лингвистический материал подтверждает верность данной гипотезы. Рассмотрим несколько "скифских" слов из источников V в. до н.э. – II в. н.э.
Асхи ἄσχυ – название напитка у скифского племени, обитающего где-то в Приуралье или на Северном Кавказе. Геродот пишет: "Из гущи асхи они приготовляют в пищу лепешки" (2) . Скифское асхи чрезвычайно близко к балкарскому ацытхы (кислое, прокисшее, забродившее) и ачхыл, ацхыл (кисловатый) (3) . Чаще всего это слово употребляется для кислого теста, из которого делают хлеб и лепешки. В комментарии к этому слову, данном автором академического перевода "Истории" Геродота Г.А. Стратановским, написано: "Слово "асхи" (ачи) можно сравнить с древнетюркским "ачуг" (горький). У современных башкир есть кушанье "ахша" (Лурье С.Я. История. С. 100)" (4) . Однако автор не привел очень близкое по звучанию башкирское слово асы "горький" (5) . В связи с этим я также привожу тюркские ачуу (алт., тел., каз.-тат., к-тат.) – ‘горький, кислый, соленый’ (6) , ачik ﻖﯿﭽﺍ (тар., чагат.) – ‘кислый (острый) на вкус, но приятный’; ачi – ‘быть кислым, горьким’ (7) , ачы (к.-тат., тел., монг.) – ‘киснуть’, ‘сделаться кислым’, ‘прийти в брожение’ (8) , ачы (к.-тат.), осм. ﻰﭼﺁ, кар. т. ציאָ – ‘кислый’, ‘прокисший’, ‘горький’, ‘соленый’, ‘имеющий острый вкус’ (9) . В якутском языке это слово имеет форму асы (10) .
В старом казахском языке зафиксировано слово асшы ‘кислый’ (11) . Сюда же примыкает татарское ﺁﭼﺘﻘﻰ ачыткы ‘квас’, ‘закваска’ (12) , что соотвествует кар.-балк. (верх.-балк.) ‘ацытхы’. Ф. Браун считал этот скифский термин древнейшим тюркским словом, дошедшим до нас и даже Мюлленгоф, который был яростным сторонником иранства скифов, а также Эрман не смогли объяснить иначе, как признать его тюркским словом ачы – ‘горький’, а Томашек монгольским (13) . "Туземцы Крыма, – писал большой знаток природы Крыма В.Х. Кондараки в 1883 г., – считают кизиловый плод чрезвычайно полезным при всякого рода болезнях, если его употреблять в виде отвара. В этих убеждениях они рассказывают, что все знаменитые медики древних времен, заезжая в Тавриду, не оставались в ней потому, что видели множество кизила, как самого лучшего врача против всех болезней, свойственных человеческому организму".
С незапамятных времен отваром из кизиловых листьев лечили кишечные болезни, а отваром плодов – простуду и лихорадку. Помимо этого плоды обладают бактерицидными свойствами. Уже в наше время установили, что в коре кизила, его ягодах и листьях содержатся органические кислоты, сахара, пектины, танины, а витамина С в них столько же, сколько в черной смородине. На Кавказе из протертых ягод кизила издавна делают особый витаминный лаваш (!). Известно, что во время первой мировой войны с помощью такого лаваша удалось ликвидировать цингу на Кавказском фронте (14). Плоды кизила весьма разнообразны как по форме, так и по окраске (у культурных сортов до 3 см длиной). Мы привыкли к вытянуто-цилиндрической форме и ярко-красному цвету плодов, однако они могут быть и черными, и розовыми, и даже желтыми, а их форма меняется от почти округлой (как у вишни) до бочонковидной и грушевидной. Их вкус и консистенция также разные – от терпко-кислого до сладкого, от суховатой до сочной. Из плодов готовят превосходное варенье, компоты, кисели, мармелад, различные напитки и вина (15).
Один самых ценных и интересных фрагментов скифского языка дошел до нас в труде античного автора Гая Плиния Секунда (28 – 79 гг. н.э.), так как скифское слово в нем снабжено переводом. Гай Плиний Секунд, описывая Скифию, сообщает: "За этой рекой живут скифские племена. Персы дали им общее название саков от ближайшего народа… Сами скифы называют персов хорсарами, а Кавказские горы – Кроукасисом, т.е. "белый от снега" - Ultra sunt Scytharum populi. Persae illos Sacos in universum appellavere a proxima gente, atiqui Aramios. Scythae ipsi Persas Chorsaros et Caucasum montem Croucasim, hoc est nive candidum" (Кн. VI, 50). (16) Слов кроукасис явно состоит из двух тюркских слов: кърау (крау) ‘иней’ (17) +кас (къаш) ‘брови’, что означает ‘заснеженные брови’. Но қас//қаш в тюркских языках означает ‘гора’, ‘возвышенный край’, ‘край’, ‘предел’, ‘берег большой реки или моря’, ‘возвышение’, ‘вал’. (18) И действительно гора Эльбрус (самая высокая точка Кавказа) похожа на брови. По поводу данного слова О.Н. Трубачев отмечал, что оно не выводимо из иранских языков. (19)
Наконец интересен и другой античный источник, который сохранил античное название р. Урал: Δαίξ *Daiks. Под этим именем р. Урал показана на карте Птолемея (II в. н.э.). В этом нельзя не узнать тюркские названия р. Урал: башк. Яйык, каз. Жайық, что означает ‘раскивнушийся’, ‘пастбищные угодья’, кар.-балк. Жайлыкъ ‘летнее пастбище’ (20) или кар.-балк. Жайыу ‘мелководье (место брода)’(21) . Слово дайык отмечено во многих тюркских языках: тур. йайык ‘распростертый, открытый, плоский’, узб. йайық ‘широкий, плоский’, уйг. йейиқ ‘растянутый, открытый, плоский’, кир. җайық ‘распростертый’, ккалп. жайық ‘широкий’, алт. д’айық ‘наводнение, потоп’, тув. чайық ‘ливень’ (2) . В.В. Бартольд по этому поводу отмечал: "Птолемею Волга известна под ее финским названием Ра, Урал под турецким (тюркским – А.Г.) названием Даикс (Яик)". (23) В Казахстане еще известны топонимы и гидронимы с основой жайық: Жайықбай и др.(24)
Вышеприведенные материалы говорят о полиэтничности Скифии, возможности проникновения племен урало-алтайского круга в Восточную Европу уже в скифское время.
Литература, источники, примечания
1. Малов С.Е. Древние и новые тюркские языки //Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. Т. XI. Вып. 2. М., 1952. С. 135-143; Мищенко Ф.Г. Этнография России у Геродота //ЖМНП. 1896. № 5. С. 79, Его же. К вопросу о царских скифах //Киевская старина. 1884, № 5; Яцимирский А.И. Смена древних народностей на территории Подонья – Приазовья и их археологические памятники //Донская археология. 2001. № 3–4. С. 136.
2. Геродот. История. Кн. IV. Абзац 23.
3. Карачаево-балкарско-русский словарь. М.: Рус. яз., 1989. С. 99.
4. Геродот. История в девяти книгах. Пер. и примеч. Г.А. Стратановского. Л.: Наука. Лен. отд-ние, 1972. С. 519.
5. Юлдашев А.А. К проблеме формирования башкирского национального языка // Вопросы башкирской филологии. М., 1959. С. 101.
6. Радлов В.В. Опыт словаря…, Т. I, ч. 1. 511.
7. Радлов В.В. Опыт словаря…, Т. I, ч. 1. 509.
8. Радлов В.В. Опыт словаря..., Т. I, ч. 1. 504.
9. Радлов В.В. Опыт словаря..., Т. I, ч. 1. 503.
10. Ibid.
11. Русско-киргизский словарь. Казань, 1911.
12. Самоучитель для русских по-киргизски и для киргиз по-русски. Казань, 1911. С. 13.
13. Браун Ф. Разыскания в области гото-славянских отношений. Ч. I. СПб. 1899. С. 88; Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. Народы нашей страны в "Истории Геродота". М.: "Наука", 1982, С. 250-251; Мизиев И.М. История рядом. Нальчик. 1990. с. 57.
14. Шатко В. Кизил // В мире растений. 2003. № 4.
15. Ibid.
16. Pliny. Natural History, with an English translation in ten vol., Vol. II, libri III – VII, by H.Rockham, Harvard University Press, London, MCMLXI.
17. Этимологический словарь тюркских языков. Буква "К", под ред. Г.Ф.Благовой, М., 2000, С. 224.
18. Радлов В.В. Опыт словаря…, II 1 345; Топонимия Центрального Казахстана…, С. 84.
19. Подосинов А.В., Скржинская М.В. Римсксие географические источники: Помпоний Мела и Плиний Старший. М. 2011. С. 197, 351; См. также: О.Н. Трубачев. Indoarica в Северном Причерноморье. реконструкция реликтов языка. Этимологический словарь. М. 1999. С. 188-193.
20. Коков Дж.Н., Шахмурзаев С.О. Балкарский топонимический словарь. Нальчик. 1970. С. 63.
21. Ibid.
22. ЭСТЯ (на буквы җ-ж-й). М. 1989. С. 77.
23. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. Л. 1927. С. 9.
24. Топонимия Центрального Казахстана. На каз. яз.